УРОКИ АРМЕНИИ — 2
УРОК ЯЗЫКА — 2
Азбука — 2
Букварь — 5
Созвучия — 7
Прямая речь — 8
Намёк — 9
УРОК ИСТОРИИ — 10
Лео — 10
Матенадаран — 11
Развалины (Звартноц) — 13
Связь времён — 14
Книга — 16
Голос крови — 20
История с географией — 21
УРОК ГЕОГРАФИИ — 22
Макет — 22
Город — 22
Простор — 25
Озеро — 26
Гора — 30
КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК — 31
Тезис — 31
Богатство — 32
Семья и маска — 35
Аэлита из Апарана — 39
Песенка — 44
Попугайчики (антитезис) — 46
ГЕХАРД — 49
Врата — 49
Восхождение — 50
Вершина — 52
Побег — 54
СТРАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЯ — 55
«Раньше и теперь» — 55
Контрольная работа — 56
Дыхание на камне — 64
У СТАРЦА — 69
Визит — 69
Конец (звонок) — 75
Путешествие в небольшую страну
… Лёгкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница ещё не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздаётся голос муллы. Там нашёл я несколько неизвестных имён, нацарапанных на кирпичах проезжими офицерами. Суета сует! Граф *** последовал за мною. Он начертал на кирпиче имя ему любезное, имя своей жены — счастливец, — а я своё.
Любите самого себя,
Любезный, милый мой читатель.
Пушкин. «Путешествие в Арзрум»
УРОК ЯЗЫКА
----------------
Азбука
Да простит мне Армения, небу её идёт самолет! Я вышел на поле — горячий и чистый ветер ударил в лицо. Он был очень кстати после вчерашнего. Я оглянулся и счастливо посмотрел вверх — там увидел я самого себя несколько мгновений назад, — там, разворачиваясь, садился самолёт, а небо было самого аэрофлотовского цвета, как тужурка у стюардессы, а самолётик — как крылышки в её петличке… Я шёл к зданию вокзала: ЕРЕВАН.
ԵՐԵՎԱՆ
Ага, значит, вот эта штука — Е, вот эта — Р, а эта опять Е…
Так и запечатлелся во мне первый кадр: ветер и выгоревшая трава, которая не то чтобы стелилась по ветру (она была слишком короткой для этого), но была навсегда им причёсана. Ветер подталкивал меня к Еревану. Это, значит, В, а это вот А, а это уже Н. Красиво.
Потом я ждал свой чемодан, привычно размышляя о том, стоит ли так быстро летать, чтобы столько же ждать свой багаж. Будто он ещё летит, а только я уже прибыл.
Вокзал, по моему убеждению, не место для естественного человека, но этот был не совсем похож на мои прежние вокзалы. Тут было по-южному гортанней и шумнее, но одновременно почему-то и спокойней. Конечно же, толкучка, даже более темпераментная, но как-то вроде и не толкается никто… Не было тут той затравленности пассажира, где каждый сам по себе — боится за чемодан, боится опоздать, боится быть обиженным и обойдённым, — и оттого появляется в нём автобусная вокзальная твердоватость и туговатость, и сам он становится похож формой и твёрдостью на свой фанерный чемодан с царапающими и цепляющими углами, и лицо — как замок. Такой заденет плечом — синяк будет.
Тут толкотня была другая — базарная, мягкая, — где перешагивают чемоданы, как арбузы и дыни. И в ожидании нет трагедии: можно взвеситься на аэрофлотовских весах, красивых, как часы… Взвешивают детей, взвешивают бабушек, взвешиваются сами. Никто их не гонит и не кричит на них, как ни странно. Я приехал с желанием, чтобы мне здесь нравилось, и мне нравилось.
Весил же я всё столько же. Тридцать лет от роду. Весы показывали 7 сентября 1967 года. Я ждал, когда прилетит мой чемодан, и пялился на вывески, как дошкольник.
ԱԷՐՈՖԼՈՏԻ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Что могло быть написано такими вот красивыми и значительными в своей непонятности буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения?..
Права-обязанности пассажира Аэрофлота
Вот что было написано этими удивительными буквам! Это утверждал справа уступивший первое место, подчинённый, как и положено переводу, русский текст. Но раз такие родные «не курить, не распивать, выхода нет» были переводом с армянского, не означало ли это, что армяне — вот кто ввёл их в наше российское обращение? Не может быть. Значит, тут имел место редкий случай перевода справа налево или воссоздания оригинала по подстрочнику.
Поразительно всё-таки прочна природа уважения к печатному слову — ничем его не подорвать. Стоит столкнуться с чужим языком — и благоговение перед таинством грамоты, как у подписывающегося крестом. Трудно тогда поверить, что записать можно что угодно, так же как и сказать. Трудно поверить в безразличие таких мудрых и совершенных букв к словам, ими составленным. «Буквы… Ну подумаешь, буквы! — увещевал себя я. — Разве что красивые. Русские, что ли, некрасивые? А ими что угодно пиши — это же меня не смущает… — И только тогда подумал: — Ладно, пусть. Пусть с русского на армянский, хоть и справа налево… Но разве это русский — то, что справа?.. С какого же это злого языка на русский-то переведено?»
Если уж очень многого ждать от встречи, то можно забыть сказать «здравствуйте». Никогда бы не предположил, что после палочек и ноликов первого класса буквы могут стать ещё раз предметом волнений и даже страстей… Однако если не первый, то второй вопрос, который мне был задан на армянской земле, был: «Ну, как тебе нравится наш алфавит? Правда, очень? Скажи, только честно, какой тебе больше нравится, твой или наш?»
Да простит мне Россия, я готов согласиться: наш алфавит проигрывает… У «великого, могучего, правдивого и свободного» (Тургенев) не убудет от такого заявления.
Собственно, раньше я о достоинствах нашего алфавита почему-то не задумывался. Разве что мне казалось неверным набирать классиков по новой орфографии — они-то ведь не по ней писали. Мне не хватает фиты в имени Фёдор, например, и-десятеричного в слове «идиот» и кое-где твёрдых знаков, в конце некоторых слов. (Так же и рождались классики не по новому стилю, а по старому: привыкали к числу и месяцу своего рождения… и число это что-нибудь для них значило). Не переименовываем же мы в их произведениях города и улицы в соответствии с названиями нынешними, не переводим цены в новый масштаб цен… Такие мелкие вопросы досуже возникали во мне. А так я не обращал внимания на наш алфавит, не замечал его, более вслушиваясь в слово, чем всматриваясь в него.
Задумался я об этом, лишь присмотревшись к армянскому алфавиту и наслушавшись чужого звучания речи. Это великий алфавит по точности соответствия звука графическому изображению. Тут всё цельно и образует круги. Цепкость армянской речи («дикая кошка — армянская речь») так соответствует кованности армянских букв, что слово — начертанное — звякнет, как цепь. И так ясно представляются мне эти буквы выкованными в кузнице: плавный изгиб металла под ударами молота, слетает окалина, и остаётся та радужная синеватость, которая мерещится мне теперь в каждой армянской букве. Этими буквами можно подковывать живых коней… Или буквы эти стоило бы вытёсывать из камня, потому что камень в Армении столь же естествен, как и алфавит, и плавность и твёрдость армянской буквы не противоречат камню. (Стоит вспомнить очертания армянских крестов, чтобы опять восхититься этим соответствием). И так же точно подобна армянская буква своим верхним изгибом плечу древней армянской церкви или её своду, как есть эта линия и в очертаниях её гор, как подобны они, в свою очередь, линиям женской груди, настолько всеобще для Армении это удивительное сочетание твёрдости и мягкости, жёсткости и плавности, мужественности и женственности — и в пейзаже и в воздухе, и в строениях и в людях, и в алфавите и в речи. В армянской букве — величие монумента и нежность жизни, библейская древность очертаний лаваша и острота зелёной запятой перца, кудрявость и прозрачность винограда и стройность и строгость бутыли, мягкий завиток овечьей шерсти и прочность пастушьего посоха, и линия плеча пастуха… и линия его затылка… И всё это в точности соответствует звуку, который она изображает.
Я по-прежнему не знаю армянского языка, но именно поэтому ручаюсь за правду своего ощущения: передо мной был только звук и его изображение, а смысл речи был за моими пределами.
Этот алфавит был создан гениальным человеком с поразительным чувством родины — был создан однажды и навсегда, — он совершенен. Тот человек был подобен богу в дни творения. Создав алфавит, он начертал первую фразу:
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ.
На этот раз фраза то и значила, что было ею начертано:
Познай мудрость, проникни в слова гениев.
Начертав (именно не написав, не нарисовав), он обнаружил, что не хватает одной буквы. Тогда он создал и эту букву. И с тех пор стоит армянский алфавит.
Для меня нет ничего убедительней такой истории. Можно выдумать человека и можно выдумать букву, но нельзя выдумать, что человеку не хватило одной буквы. Это могло только быть. Значит, был и такой человек. Он не легенда. Он такой же факт, как этот алфавит. Имя его Месроп Маштоц.
Я бы поставил Маштоцу памятник в виде той последней буквы — каменное доказательство его правоты.
Человек, мало-мальски наделенный чутьём и слухом к слову, никогда не усомнится в существовании творца… Когда была опубликована статья русского учёного-филолога, ставящая под сомнение реальное существование Маштоца, кто её заметил, кто её прочёл, кроме горстки специалистов? Вся Армения. И до меня, приехавшего год спустя, всё ещё доходили отголоски национальной бури. Чтобы взрослые люди и так волновались из-за каких-то буквиц…
Я испытал удивление и чувство неловкости. В течение одного дня я знал об истории армянского алфавита больше, чем об истории русского. Мне пришлось приблизить к себе никогда не волновавший меня вопрос…
Слово — самое точное орудие, какое было когда-либо у человека, но филология ещё не достигла точности угаданного слова. Ей пристала скромность. Она при слове, а не слово при ней. Сомнение в существовании Маштоца оскорбительно для армянина. И я прекрасно понимаю его. И уж во всяком случае такой алфавит не мог быть плодом трудов коллектива учёных-языковедов. Это уж точно.
Армяне сохранили алфавит неизменным на протяжении полутора тысяч лет. В нём древность, история, крепость и дух нации. До сих пор рукописная буква не расходится у них с печатным знаком, и даже в книгах, и типографском шрифте существует наклон руки писца. Рукопись переходит в книгу, почти не претерпевая графических метаморфоз. И это тоже замечательно.
Прогресс, врывающийся в словарь, в правописание, унификация правил, упрощение начертаний — дело, полезное для всеобщей грамотности, но не для культуры. Охрана языка от хозяйственных поползновений так же необходима, как и охрана природы и исторических памятников. Стоит вспомнить кириллицу — насколько она ближе по своей графике русскому пейзажу, русской архитектуре, русскому характеру…
Пресловутый анекдот об учителе гимназии, покончившем с собой из-за отмены ятей, в Армении не пользовался бы успехом. Он бы не был смешон. Такой человек в Армении мог бы быть национальным героем.
Больше всего меня веселит, что реформа правописания сэкономила много бумаги, что на одни отменённые твёрдые знаки в концах слов в «Войне и мире» набегает целый печатный лист, а в общегосударственном масштабе… Но эта экономия не перекроет макулатурного потока.
Букварь
----------------
Ереван — моя азбука, мой букварь, мой каменный словарик-разговорник. Слева — по-армянски, справа — по-русски. Только слова в беспорядке. Рядом с, А — автоматом — Ш — шашлычная. А Б — базар — совсем на другой улице, через несколько страниц.
Я шуршу страницами кварталов, улиц и площадей в поисках Р — редакции, Д — друга, Ж — жилья и П — просто так. Это мой русско-армянский словарь.
Но если бы я знал армянский и мог пользоваться Ереваном как армяно-русским словарём, порядка, конечно, было бы не больше. Это меня утешает.
Но я нахожу своего друга, и у меня появляется учитель. Ему попадается малоспособный ученик, с памятью восторженной и дырявой. Но у учителя появляются помощники. Я попадаю в сладкий плен — у друга есть мать жены, жена брата, друг брата и брат друга. Я познаю всю прочность армянских родственных связей и опутан этой цепью, и каждый мой новый час прибавляет новый виток. И мне уже не бывать одному никогда…
— Андрей, сурч — это что такое?
Я ещё ни разу не угадал и теперь молчу, улыбаюсь смущённо.
— Андрей, сурч — это хорошо или плохо?
И все ласково смеются над моим замешательством.
— Андрей, хочешь сурч?
— Хочу.
— Молодец. Пятёрка.
И мне несут кофе. И так хорошо у нас не варят кофе…
— Андрей, дзу — это что такое?
— Андрей, дзу — это хорошо или плохо?
— Андрей, какое слово, по-твоему, лучше: дзу или яйцо?
И я ем дзу. Таких яичниц я не ел никогда в жизни. О, нищая глазунья.
Хоровац, бибар, гини… Я поедаю наглядные пособия.
И всё это хорошо… Только есть так много — плохо…
Учат и сами учатся.
— Я пришла, — говорит мой друг, — как правильно: пришла или пришёл?.. Я пришёл к сестру… Как правильно: к сестра?..
И когда они устают ломать свою голову и язык переводом таких простых и понятных слов, таких прекрасных, на чужой, мой, язык, устают путаться в падежах и родах, они вдруг соскальзывают счастливо на родную речь и начинают отдыхать в ней между собою; я тем временем опять ем, всё ещё ем и ещё раз ем, ем за всех: за маму друга и за папу его жены, за друга его брата и за брата его друга, разве что за друга своего не ем (он-то может оказать мне такую услугу)… Зато, пока я ем, они могут хоть поговорить спокойно.
И когда они наконец погружаются в покалывающие, как горная река, воды своей речи, я вдруг испытываю ту же лёгкость, что и они, с меня спадает эта невнятная неловкость, и мне радостно слышать чужую речь. И не только по причинам, приведённым выше. Впервые в жизни я поймал себя на том, что, не понимая языка, я слыву то, чего никогда не слышу в русской понятной мне речи, а именно: как люди говорят… Как они замолкают и как ждут своей очереди, как вставляют слово и как отказываются от намерения вставить его, как кто-нибудь говорит что-то смешное и — поразительно! — как люди не сразу смеются, как они смеются потом и как сказавший смешное выдерживает некую паузу для чужого смеха, как ждут ответа на вопрос и как ищут ответ, в какой момент потупляются и в какой взглядывают в глаза, в какой момент говорят о тебе, ничего не понимающем…
И ещё, когда они говорят со мной, то есть говорят по-русски, они никогда не смеются. Стоит им перейти на армянский — сразу смех. Словно смеются над тобой, непонимающим. Так вполне может показаться, пока не поймёшь, что смеяться возможно лишь на родном языке. Мне не с кем было посмеяться в Армении…
Если им бывало уж очень смешно, отсмеявшись, они спохватывались. Улыбка смеха сменялась улыбкой вежливости — подчинённая жизнь лица, — ко мне поворачивались. Та, невольная, улыбка сходила ещё не сразу, память о смехе тихо таяла в глазах, и в них отражался я, моё наличие. Их лица приобретали чрезвычайно умное и углублённое выражение, как в разговоре с иностранцами на плохом языке, когда, чем глупее разговор, тем значительнее интонация, а киваний и поддакиваний не сдержать никакими силами… После таких разговоров ноют мускулы лица и шеи от непривычной, неестественной работы.
Только на родном языке можно петь, писать стихи, признаваться в любви… На чужом языке, даже при отличном его знании, можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. Один язык у человека — два языка не покажешь.
Чуть ли не так, что чем тоньше и талантливей поэтическое и живое знание родного языка, тем безнадёжней знание чужого, и разрыв невосполним. Как остроумен мой друг, по-русски мрачный, почти унылый человек… Каждая его фраза по-армянски встречается таким радостным, неподвластным смехом… «Ах, как жаль, что ты не понимаешь его армянский!» Как жаль… Вот ещё и кроме армянского существует его армянский! Но ведь и кроме их русского существует в нашем русском мой русский…
Мне не с кем было посмеяться в Армении. И я был счастлив, когда обо мне забывали. И был счастлив журчанием и похрустыванием армянской речи, потому что у меня было полное доверие к говорящим. Антипатия к чужой речи в твоём присутствии — прежде всего боязнь, что говорят о тебе, и говорят плохо. Откуда эта боязнь — другой вопрос. Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде всего среди людей, не доверяющих друг другу. Среди дипломатов, допустим. Мы же доверяли друг другу. Более того, мои друзья были настолько тактичны, что при мне договаривались насчёт меня именно на своём, непонятном мне языке, чтобы я не подозревал о всех тяготах организации моего быта: поселения, передвижения, сопровождения и маршрутов. Опять забываю, что им было легчи так договариваться…
Я слушал чужую речь и пленялся ею. Действительно, что за соединение жёсткого, сухого, прокалённого и удивительно мягкого, «нежьного» — как сказал бы мой друг! Как жёсткая, прожжённая земля и сочный плод, созревающий на ней… Хич — россыпь мелких камней, джур — вода, журчит в этих камнях, шог — жара над этим камнем и водой, чандж — муха, звенит в этой жаре. Хич, джур, шог, чандж — и вдруг среди всего этого лолик — помидор.
Хич, карь — конечно, это не наш камень, это их камень. Что ка-мень? — лежит на дороге… Джур — это их вода, она холодная и журчит под этими камнями, и её мало… Что им наша во-да?.. Так много воды в этом слове, и сверху и снизу… Чандж — разве это наша нарисованная муха?.. Дехц — персик… Тут же есть кожа персика, в этом слове, его пушок, ворсинки!.. А что такое пер-сик? От перса… Просто иностранный фрукт.
— Андрей, что лучше: кав или глина? Арагил или аист? Журавль или крунк?
И действительно, что лучше? Подумать только, журавль! — и не подозревал, что это так красиво. Или — крунк… До чего хорошо!
Я влюбляюсь в слова: в армянские благодаря русским и в русские благодаря армянским…
— Что лучше: цов или море?
И вдруг не чувствую «море», в нём нет волнения, зеркало, и вдруг сочувствую слову «цов» — вижу, в нём волну набегающую… но волна, оказывается, вовсе не цов, волна — алик, нежно лижет берег. Но если бы цов было только море! А цов — это и море, и тишина, цов — это тоска в красивых глазах и просто красота, цов — это народ толпою и просто «много»…
Созвучия
майр — мать
сирд — сердце
серм — семя
мис — мясо
гини — вино
… — …
Но камар — это вовсе не комар, камар — это арка.
А арка — это вовсе не арка, арка — это царь.
А цар — это вовсе не царь, цар — это дерево.
пар — танец, пляска
гол — тепло
цех — грязь
… — …
Но парение есть в пляске, голое и тепло — так близко… Дерево, конечно же, царственно, и всё это натяжка, а вот что цех это грязь — точнее не скажешь.
— У вас есть слово «атаман», — говорит мне друг, — а у нас «атам» — это зуб, клык. Поэтому, когда я в детстве книжки читал, всё думал, что атаман — это человек с клыками…
— А я думал, что он на оттоманке лежит, — говорю я.
— У вас есть слово «хмель», — объясняет мне друг рано утром на первом уроке, — а «хмел» по-армянски значит «выпить». Поэтому у нас прижилось ваше слово «похмелье».
— Андрей, аствац — что такое? — строго спрашивает друг.
— Андрей, аствац — это хорошо или плохо?
— Аствац — это хорошо, — говорю, — аствац — это отец.
— А ведь верно! — удивляется мой друг. — Кенац!
Прямая речь
------------
Аё — по-армянски «да». Чэ — по-армянски «нет». Не знаю почему, но всюду — на улицах, в магазинах, в автобусах — я чаще слышу «чэ», чем «аё». Чэ, чэ, чэ. Обычный автобусный диалог представлялся мне так: один всё спрашивает, наседает, а другой отвечает «чэ, чэ», а потом, наоборот, другой всё спрашивает, а первый отвечает своё «чэ». Я так сам понял, что «чэ» по-армянски «да», и спросил друга: а как по-армянски «нет»? А он мне и говорит: «Чэ». — «Как „чэ“? — воскликнул я. — А как же тогда „да“?» — «Аё». Вот как я ошибся. Думал, теперь разберусь… Но так я ни разу и не услышал «аё», а всё «чэ».
Брат моего друга — журналист. Он меня очень любит, потому что я очень люблю его брата. Это в Армении естественно. Как-то мы шли с ним по улице, и он мучительно, страшно молчал. И смотрел на меня таким просящим взглядом, что я поневоле говорил без передышки и за себя и за него. Дело в том, что в Армении, наверно, нет другого такого человека, кому бы русский язык доставлял бы столько же истинного, даже физического страдания. Со мной он разговаривал в основном глазами. Когда ему следовало составить фразу по-русски, глаза его немели от напряжения и того давления, которое, по-видимому, развивалось в этот момент в его мозгу. Потом во взгляде его появлялась короткость и кротость, как у жвачных животных, и он не произносил задуманную фразу. Дело, по-видимому, было даже не в том, что он мало знал русских слов, а в том, что ни одного слова по-русски он не мог подумать.
И вот мы шли по улице, и вдруг из моей речи он понял, что я приехал не просто в гости к его брату, а в командировку от газеты. (Это я обмолвился, учитывая, что он журналист). Лицо его затуманилось, и вдруг его прорвало. Передавать речь его в точности я не берусь — никто не поверит…
— И ты будешь про нас писать? — сказал он.
После этого он стал разговаривать со мной так: увидит — арбузы везут…
— Это армянский арбуза, — говорит.
Увидит ослика…
— Это армянская ишак, — говорит.
— Это армянский очень толстый женщина. А это армянский пиво. Пиво хочешь? Арбуз хочешь? Это обыкновенный армянский такси. Поедем, хочешь?
Я сначала улыбался, потом надумал обидеться. Но сдержался. Потом мне было уже проще: я знал, что это будет армянский забор, а это армянский столб, а это обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надоело? Я уже не обижался, а думал: почему он так?
Наконец он устал.
— Только не пиши, пожалуйста, — сказал он, — что Армения — солнечная, гостеприимная страна.
Помолчал и добавил:
— Я вот сколько живу тут и пишу, а всё не написал, какая она.
— Знаешь, — сказал я искренне, — это же и меня мучит. Я даже думаю, что ничего писать не буду. Что я увижу за две недели? Что пойму? Серьёзно не напишешь, а несерьёзно об Армении я уже писать не могу… И потом, если рассудить, разве бы я сам, для собственной радости, не согласился бы сюда приехать? За свои деньги? Значит, верну деньги за командировку и скажу «спасибо». Тем более что я же не работаю в газете и от неё не завишу.
— Ну зачем же возвращать?! — возмутился брат друга. — Почему же это ты не напишешь?.. Поживи ещё. Напишешь… — сказал он, и этой его интонации я уже совсем не понял: «напишешь» — это хорошо или плохо?
И вот кончилось моё путешествие, вот я дома, вот я мучился, мучился, гуляя вокруг стола, и вот всё-таки сел за машинку.
И что же я вывел в первой фразе?
«Армения — солнечная, гостеприимная страна».
И что же я вдруг услышал?
— Чэ, чэ, чэ! Чэ, Андрей, чэ!
— Да, но это же так! — Я покраснел.
— Чэ, Андрей, чэ!
Я поднатужился:
«Армения — горячая, многострадальная земля».
— Чэ.
— Ну какая же она, твоя Армения?! — взвился я.
— Знал бы, сам написал.
— Ну скажи хоть лучше, чем я! Смотри, я сказал: горячая… Разве сразу найдёшь такое слово? Именно горячая. Тут всё горячо: небо, земля, воздух, солнце, люди, история, кровь, та, что в людях, и та, что из людей…
— Чэ, Андрей.
— Ну скажи лучше, попробуй!
— Попробую… Армения — моя родина.
— Ты прав. Но не моя же! Я не могу так написать!
— Зачем же пишешь?
— Но я же очерк пишу! Не стихи, не рассказы. О-черк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки неармянина. О-черк, понимаешь?
— А очерк по-армянски знаешь как?
— Нет…
— Акнарк. А «акнарк» по-русски знаешь что?
—? ? ?
— Намёк.
Намёк
------------
Да, когда я писал о созвучиях, я пропустил одно: уш. Уш — это не уши. Но близко. Уш — это внимательный. Зато апуш — это не просто невнимательный, что было бы логично. Апуш — это идиот.
УРОК ИСТОРИИ
----------------
Лео
Мне достаточно трудно представить себе кого-нибудь из высокопросвещённых своих знакомых (дедушки нет в живых…), прогуливаясь с которым я бы слышал следующее:
— Вот здесь нашли тело Распутина.
— А вот здесь останавливался Наполеон.
Или:
— Вот видишь горку, за ней роща, вот оттуда, когда мы уже отступали, выскочил Денис Давыдов и своими ошеломительными действиями вдохновил наше уставшее войско…
В Армении подобные вещи знает, кажется, каждый.
Такое впечатление, что в Армении нет начала истории — она была всегда. И за своё вечное существование она освятила каждый камень и каждый шаг. Наверно, нет такой деревни, которая не была бы во время оно столицей древнего государства, нет холма, около которого не разыгралась бы решительная битва, нет камня, не политого кровью, и нет человека, которому бы это было безразлично.
— Андрей, посмотри, во-он та гора, видишь? А рядом другая… Вот между ними Андраник встретил турок и остановил их, и они повернули обратно…
— Вот видишь трубу? А рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ. Построена несколько лет назад. Раньше тут жили молокане.
— А вот тут Пушкин встретил арбу с Грибоедом…
И так без конца. Это мне говорили шофёры и писатели, повара и партийные работники, взрослые и дети.
И не было дома, где бы я не видел одну толстую синюю книгу с тремя красивыми уверенными буквами на обложке — ЛЕО. Я видел её и в тех домах, где, в общем, книг не держат, — тот или другой из трёх синих томов ЛЕО.
Лео — историк, написавший трёхтомную историю Армении. И очень популярный. Как наш Карамзин или Соловьёв.
Я спрашиваю русских:
— Вы читали Карамзина?
— Ну, а вот недавно переиздали Соловьёва, читали?
Вряд ли я найду том Соловьёва у шофёра или прораба строительных работ. У писателей-то в лучшем случае у одного из десяти.
Я, например, не читал.
А Лео читают и читают. Всюду Лео. Читают так же добросовестно, как он писал. А он писал и писал и ничего другого в жизни не знал, с утра до вечера он писал, каждый день и всю свою жизнь. К старости он ослеп. Но он хотел написать свой шедевр, последний. Он просил у дочери перо, бумагу и чернил.
И, слепой, писал с утра до вечера.
И написал.
И умер.
Только дочка, оказывается, ставила слепому чернильницу без чернил, чтобы он не пачкал.
А он и не заметил.
Такая легенда.
Господи, что он написал?!
Матенадаран
------------------
Если многое считается замечательным в современной армянской архитектуре, то Матенадаран — самый замечательный пример этого «замечательного». К тому же построено здание только что, и буквально в наши дни, то есть в мои и ваши.
Начать с того, что назначение строения самое почтенное. Это хранилище древних рукописей. И поскольку армяне очень давно пользуются своей дивной письменностью, то рукописей этих, несмотря ни на какие национальные беды, сохранилось великое множество, и каждая из них уникальна и уже не имеет цены. И хранить это национализированное национальное сокровище необходимо бережно и достойно. Тоже понятно.
Матенадаран построен для этой цели. Отвечая своему назначению практически и технически, он ещё и воздвигнут как памятник многовековой и великой культуре.
И так всё отлично выполнено, что ни к чему не придерёшься. Во всём видны благородные намерения строителей, и к тому же намерения эти вполне выражены. И место выбрано — издалека виден Матенадаран, ничто не заслоняет его, и в стороны ему просторно, и за ним уже ничего не толчётся — дальше горы. И он спадает с этих гор таким строгим гранитным отвесом, как водопад, а ниже, куда он спадает, пенятся лестницы, разливаясь в струи и сливаясь внизу в одну, главную, приближаясь к которой ты обязан неизбежно ощутить высокий строй, а когда ставишь ногу на первую ступень, уже испытываешь трепет, а по мере подъёма, когда на тебя надвигается отвес Матенадарана и всё выше и вертикальней нависает над тобой, трепет этот как бы переходит в холодок в спине. И когда, приближаясь, ты всё уменьшаешься, уменьшаешься, а над тобой всё растёт и растёт здание, это, по-видимому, символизирует величие и огромность человеческой культуры, и твою затерянность в ней. Но — вкус во всём. Такой светлый, серый камень, что и строго и не мрачно. И такие линии, и прямые и мягкие, что сразу же ясна и великая традиция армянского зодчества, и одновременно полное овладение всеми достижениями современной архитектуры с её обнажённым назначением и эстетизированной простотой… Бездна вкуса. То есть нигде не видно безвкусицы. Вот, например, на этом повороте лестницы, на этой чистой дуге вполне могла бы стоять ужасная ваза — а не стоит. Голое место, прекрасная, ничем не запятнанная плоскость. Место для вазы есть, а вазы нет.
Я уже начинаю злиться на эту безупречность и что авторов нигде вкус не подвёл… А может, и подвёл их именно вкус? «Эта церковь построена со вкусом» — попробуй выговори такую фразу — абсурд. Или «изба со вкусом» — тоже не звучит. Между тем и церковь и изба — это самые чистые формы, они отвечают только своему назначению, и, чем точнее отвечают, тем прекрасней. Граница между зодчеством и архитектурой вдруг впервые намечается для меня. Никогда не задумывался над этим, лишь в Ереване, где так много замечательных образцов, находящихся по ту и по сю сторону этой границы…
Я поднимаюсь по лестнице и не трепещу. Жара мешает, одышка. Вдруг что-то деревянным глухим забором обнесено: мусор, свалка, не всё ещё доделано… Заглядываю. А там огромные камни в тогах стоят. Тоже очень современно и глубоко исполняется. Камень иногда сохраняет свой естественный излом, и то формы человеческие незаметно произрастают из случайных линий необработанного камня, то эти линии растворяются в естественной цельности камня. Крупные люди в плавных ниспадающих одеждах (как приятно передать в камне эту крупную вертикальную складку во весь рост!), и крупные, без лишней толкотни в чертах, лица с достойным и несуетливым вдохновением. Их несколько, таких людей. Но один ещё в лесах, один начат едва, а третий почти готов. Словно каменная кинолента о создании одной и той же скульптуры, немножко напоминающей памятник Дзержинскому в Москве (из-за шинели до пят) и Тимирязеву (из-за оксфордской тоги), только гораздо, гораздо современнее. Эти великие люди (по-видимому, именно величие так сравняло и уподобило их), которые написали те великие книги, что хранятся в этом величественном здании — такая цельность замысла, — будут стоять — ага! — на тех столь прекрасно свободных от ваз площадках. Только несколько позже, когда они все вместе будут готовы, отличаясь лишь оставленным свободным нетронутым камнем, будто уходя в эту земную твердь, с которой они так связаны… Так по-разному, так одинаково высовывались они теперь из этой тверди, как в своё время из неё же произрастали. Такие, со взглядом в будущее, в наши дни.
Да и всё строение как бы смотрит в светлое будущее, соответствуя авторским представлениям о нём.
Это величие замысла в дверях достигает наивысшей точки (как бесконечно взлетают вверх мощные плоскости) и обрывается в холле. Там уже новый строй — бесшумности и шепотливости, где-то там, впереди, склонённые вдумчивые головы наших современников, творящих новую жизнь на базе всех знаний, накопленных человечеством, истинные хозяева этих духовных богатств.
Именно с таким прищуром очутился я в некоем квадратном зале. Надо мной была стеклянная крыша, как в оранжерее, стены же были чёрные, с глубокими тенями, и там, из тени, тянулись к свету пюпитры на тонких ножках. На пюпитрах, отворённые, лежали книги.
Я пожал руку молодого тоскующего сотрудника, прозвучали наши неуместные здесь имена. Словно нехотя подвёл он нас к одному из пюпитров…
Это была биография Маштоца, написанная его учеником. Отсюда почерпнуты основные сведения о жизни великого буквотворца.
На соседнем пюпитре лежал старательно переписанный конспект по ботанике. Тысячелетний школяр рисовал на полях цветочки.
Ещё в двух шагах крутились звёздные сферы, пересекаясь и разбегаясь в милом и изящном чертеже, а земля так удобно покоилась на чём-то вроде трёх китов.
Сам тому удивляясь, в тысячный раз поневоле оживился экскурсовод. И правда, от рассыпающихся страниц до сих пор веяло жизнью, простой и ясной. Будто вся смерть ушла в новенькие стены Матенадарана.
Матенадаран — этажи под землю, и там, в кондиционированных казематах, книги, книги…
— А что, они все прочтены, изучены, описаны?
— Нет, что вы! Ничтожная часть. Они ещё не переписаны даже в каталог. Эта работа потребует ещё десять лет.
Если представить себе, сколько потребуется времени и терпения, чтобы переписать от руки чужую книгу, то какой дурак возьмётся за это в современном нам мире? Между тем, разглядывая чудесный цветок заглавной буквы, понимаешь, что переписчик, возможно, едва управлялся с нею за день.
Этих книг — десятки тысяч.
Сколько же у людей было времени в те времена! И сколько они успевали!..
Успевали они ровно столько же. А может, и больше.
Они не спешили, и дела их обретали время. В сыновьях и изделиях продолжался человек. Изделия дошли до нас, утратив имя автора, но как безусловно, что каждое из них создано одним когда-то жившим человеком!
Лечебник, травник, звездник, требник…
Вот такой травкой следовало лечить человека от вот такой болезни… И травка и болезнь называются теперь иначе и, возможно, уже не имеют отношения друг к другу. Другим лекарством лечат ту же болезнь под другим названием. Но суть-то в том, что болезнь — та же и так же принадлежит человеку, которого надо чем-то лечить.
Как много люди знали всегда! Как легкомысленно полагать, что именно наш век открыл человеку возможность пользоваться тем-то и тем-то, до того никому не известным…
Как много люди знали и как много они забыли!
Сколько они узнали, столько они забыли.
И сколько они узнали и забыли зря!
Развалины (Звартноц)
-----------------------
Словно бы зрение болезненно моему другу… Чтобы увидеть каждую следующую достопримечательность, ему надо на это решиться. И он заставляет себя. Для меня. Меня ради. Это исполняет меня благодарности и неудобства. Хотя ни он, ни я не показываем этого друг другу, да и не осознаём… Что-то сопротивляется в друге перед каждой следующей экскурсией. Конечно, он всё это зрит не в первый и не в десятый раз. Конечно, тяготы гостеприимства. Но и тяготы эти привычны. К тому же достопримечательности таковы, что их, конечно же, можно видеть бессчётное число раз: они не исчерпываются и от них не убудет. К тому же не показать их мне тоже невозможно и не полюбить их мне — нельзя. Но почему-то снова взглянуть на то, что прекрасно и любимо, трудно моему другу.
И он отправляется в очередную экскурсию…
И когда он снова видит эти камни, уныние вдруг разламывается у него на лице, он успокаивается и светлеет. На меня он совсем не смотрит, и вовсе не потому, что хочет спрятать какие-то чувства. И мне кажется, что он не хочет увидеть в моих глазах, что я не понимаю. А когда он всё-таки встречается со мной взглядом, то говорит, опять в сторону:
— Я хочу, Андрей, понимаешь?.. Я хочу, чтобы ты устал-устал, чтобы всё это солнце-солнце, эти камни… и ты вдруг почувствовал позвоночником… понимаешь, позвоночником?.. как ты устал…
— Понимаю, — поспешил кивнуть я, — хребтом…
Друг не продолжал. Мы бросали горящую бумажку в какой-то колодец. Бумажка, безусловно, так и не достигала дна. Мы осматривали каменные винные чаши, огромные, как доты. Нас сопровождал смотритель со строгим лицом скопца. Он так же глубоко проникался своей прислонённостью к великому, как вахтёр проникается своей государственностью. Вся эта праздность наблюдательности, этой ложной остроты зрения унижала меня, и вдруг становилось так жарко, я так уставал, настолько ничем были для меня эти камни и так я стыдился этой своей бесчувственности, тайком пощупывая поясницу и чуть ли не ожидая этой спасительной, всё объясняющей боли в позвоночнике. О это мягкое насилие! Как заставить себя чувствовать хоть что-нибудь? И уже почти подсказывал мне мой симулятивный организм эту боль, как тут мы все уходили, насмотревшись, и уже фотографировались или арбуз ели. И я с чувством новичка радостно впился в прохладную мякоть, как только позволил себе это мой друг. А он себе тут же это позволил, будто это он всего лишь образно сказал про «позвоночник».
Но вот и мысль меня наконец посетила — на этих развалинах. Или на других… Храм был разрушен в таком-то веке, потом в таком-то, потом ещё раз и потом ещё, чуть ли не в наши дни. И как, однако, много осталось! В первый раз, когда рушили, то и разрушить, кажется, не удалось, а лишь — в третий раз. Потому что глыбы — два на два, допустим, метра, да обработаны так гладко, да уложены так плотно, да ещё в сердцевину глыбы свинец залит, чтобы потяжелее была и поосновательней лежала. Строили навсегда. Но потом каким-то туркам, или арабам, или ещё кому-то понадобился свинец для пуль — вот тогда только и расковыряли наконец… И то, смотрите, величие какое!
Простая мысль… Когда мы видим древние развалины, в нас прежде всего забредает романтическое и бумажное представление о неумолимости и мощности физического времени, прошедшего за эти века над делами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия. Капля долбит камень… И каждый день уносит… Ещё что-нибудь о краткости собственной жизни, о мимолётности, о тщетности наших усилий и ничтожности дел. Но как это всё не так и не то!
Это только кажется, что мощность времени… Не время, а люди развалили храмы. Они не успевали за свою жизнь увидеть, как расправится с храмом время — потом когда-нибудь и без них, — и нетерпеливо разрушали сами. Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет, чтобы от одного времени… «Время разрушать и время строить». Даже в Библии «разрушать» — сначала. Время успевает лишь слегка скрасить дело человеческих рук и придать разрушениям вид смягченный и идиллический, наводящий на размышления о времени.
И в таком виде развалины стоят уже вечно.
Связь времён
------------------
Я мечтал бы жить сию секунду. В эту секунду, и только ею. Тогда бы я был жив, гармоничен и счастлив. Живу же я где-то между прошлым и настоящим собственной жизни в надежде на будущее. Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоящим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереальной, да и не-жизнью. Я всё надеюсь с помощью чудесного усилия оказаться исключительно в настоящем времени и тогда уже не упустить его более, с тем чтобы жизнь моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти.
Даже внутри одной жизни отношения со временем (физически) так сложны. А если к этому прибавить отношения с временем историческим? А если продолжить мысленным пунктиром отрезок личного времени в прошлое и будущее, за твои временные границы? Если взять твои отношения уже не с историческим временем, а с временем истории? И если соотнести время истории с временем вечности?
Голова, конечно, кружится. И разве бы она кружилась, если бы ничего тебя с этой бездной не связывало? Что связывает времена? И что связывает тебя с временами?
Для простоты употребления времена связывают историей…
«Да и есть ли история? Существует ли объективно? Не есть ли она наше случайное отношение к времени?»
…В воскресенье необходимо было ехать в Эчмиадзин. На воскресную службу. Мой друг со мной не поехал, препоручил брату. Правда, тому были у него свои уважительные причины, но теперь мне почему-то кажется, что его всегдашнее сопротивление перед новым посещением любимых Мекк тут не присутствовало, что ему просто неинтересно было ехать в Эчмиадзин.
Но мне-то туда обязательно надо было ехать. Будет католикос. Будет петь преемница Гоар… И вообще — посмотреть.
Толпы людей на автобусных остановках — все в Эчмиадзин, Эчмиадзин. Уже эти-то, свои люди, сколько раз всё видели и слышали, а едут — это ещё убеждало меня. Толпа была очень интеллигентна.
Толпа интеллигентов — не часто встречающийся вид толпы и зрелище довольно удивительное. Каждый полагает себя не подчинённым законам толпы, а все вместе всё равно составляют толпу. Это самая неискренняя толпа из всех возможных. Сдавленный и стиснутый со всех сторон, интеллигент-ценитель тем не менее полагает себя продолжающим существовать в своём личном пространстве. Это очень видно на всех лицах. На лицах у них, напряжённо и вытянуто, выражено, будто это не их толкают и не они сейчас острó и больно оттопыривают локоть. Подчиняясь законам толпы, интеллигент всё-таки полагает себя единственным носителем истинных побуждений в бессмысленной толпе. И видеть столько масок отдельности друг от друга на лицах, отстоящих одно от другого на несколько сантиметров, по меньшей мере странно. Так и я имел отдельное от этого удивительного наблюдения лицо, пока не успокоился лицезрением поразительно красивой девушки с таким пряменьким золотеньким крестиком на шее, полупогружённым в удивительную ложбинку. Я мог смотреть на неё сколько угодно — деться ей от меня в этой душегубке было некуда. Ей же разрешалось лишь не смотреть на меня сколько угодно.
Так выдохнуло нас наконец в светлое пространство, и мы разжались с поспешностью.
Но тут уже, на просторе, начались радостные оклики и рукопожатия. Тут был «весь Ереван», и все знали брага моего друга, а я пожимал руки в качестве друга его брата, то есть и его друга, и после рукопожатия уже был другом тому, кому только что пожал руку. Это тоже могло показаться странным, до какой степени все были незнакомы в автобусе, прижатые друг к другу, и как вдруг все стали радостно узнавать друг друга, как только обрели возможность увидеть себя в нескольких метрах от знакомого. Тут узнавали друг друга не при приближении, а при удалении — так получалось. Это подтвердилось, когда все набились в храм: имея десять знакомых на один квадратный метр, снова перестаёшь быть с ними знакомым. Но тут уже можно было внутренне сослаться на сосредоточенность и благоговение.
Ну, я населил это пространство и теперь могу рассказать о том, что видел. То есть у меня несколько другая задача: рассказать, как я не видел.
Мы прошли в парк, и перед нами вырастало древнее тело огромного храма. Почему-то казалось, что он построен в конце прошлого века, а не шестнадцать веков назад; может, так тщательно и давно следили за его состоянием, так всё подновлялось и заменялось, что уже всё и заменено, и хотя формы те же, но таким новым не может быть храм, такой новой бывает только посуда. Вдруг реально: свежая кровь на стене, кровь и должна быть свежая — понятно. «Что это?» — «Это бьют голубей, головой об стенку». — «Для чего?» — «Приносят в жертву». — «Кому?» — «Богу». Тут же и мальчишки вдруг видимыми стали, хотя и до этого поблизости толклись; голуби у них живые, связками, на продажу для жертвоприношений — тоже нормальные мальчишки, своего возраста, не старше и не моложе. Дальше, кажется, мы в храм протискались… Толпа из автобуса, но — в храме; служба идёт, ритуал — всё чинно, красиво: что за одежды, какие лица! Справа, чуть ли не на эстраде, певица поёт, замечательно поёт, голос — дивный, заслушаешься, про музыку и говорить нечего — музыка.
Так мне вдруг и бросился в глаза какой-то базар: в одном месте служат, в другом поют, в третьем молятся, в четвёртом глазеют. То есть совершенно непонятно, что происходит. В чём дело? Да верующих же нет! Полно, битком, дышать нечем, цыпочки и шея болят, а верующих нет. То есть направо — филармония. Налево — театр. Сзади — любопытство. И лишь впереди, на коленях, тщеславие завсегдатая. А кто протолкался вперёд — уже и насмотрелся, да назад ходу нет. А служба течёт своим чередом, а таинство её никому не понятно. Рассмотрели одежды и лица, понюхали курения, но одежды и через десять минут те же, и лица, и запах — развитие неясно. И я… Почему я так всё это вижу? Чем у меня голова забита!.. Просто срам.
Тут хоть ребёнок заплакал искренне — маму потерял, такое облегчение на лицах: понятное это, ребёнок плачет — даже души в телах задвигались: по-понятному, сочувствие. И рад бы от стыда хоть знамением себя осенить, да тоже никак не запомнить, с какой стороны на какую и сколько перстов сложить. «Католикос! Католикос!» — наконец оживилась толпа. Вот кого выстаивали-то!
И такое передвижение началось, чтобы подвинуться поближе, водоворотики и вороночки образовались, меня к выходу вытолкнуло, а я и рад — свет, воздух! — божественное пространство. Но все, кто стремился к цели, просчитались: католикос прошёл другим путём, где не ждали. Прошёл между могильных плит, таких же, как он, католикосов (где-то и ему тут будет плита), — и никого там народу не было. Один я. Прошёл он сквозь меня, будто меня и не было, и ветерок поднял. Окаменел я, ветерком этим обдуваемый, тут-то меня толпа и растоптала…
Очнулся я на полянке, рядом — брат друга, порадовались, познакомил он меня с певицей, пригласили нас на травку, стали потчевать так просто, так естественно — ешьте, пейте! Здесь такой народ сидел замечательный! Пока все там в храме культурно развлекались, скучая, тут ели под открытым небом жертвенных барашков: всех угости, а сам своего барана не ешь… Ешь, пей, славь господа! На одной земле сидим, под одним небом, всем делимся, ничего друг у друга не просим! Мир на лицах, мир на миру. Опять чудесная жизнь окружает нас, люди! Вон баранчика, такого трогательного, повели, с красной ленточкой на шее, сейчас его зарежут… А там, в каменном мраке, в пламенном и жирном аду, шашлык из него сделают и тем шашлыком тебя угостят… А там женщина куру какой-то бедной старушонке вручила, по-настоящему ей бы надо куру эту приготовить и угостить, но готовить неохота, можно и так отдать, пусть та старушка потом сама себе сготовит… Главное — отдать своё и, что отдашь, того самому не есть… Сижу это я, в одной руке вино, в другой — шашлык, в лаваш завороченный, вокруг меня чужая речь — и хорошо мне вдруг, так по-детски хорошо! Пропало на секунду время, как только, наверно, в молитве да в счастье бывает, когда господь слышит… А уж на эту поляну он непременно бросит взор — это будет для него воскресный отдых.
А нас уже и на свадьбу пригласили, и ещё к одному знакомому брата друга в гости, и ещё к одному знакомому знакомого, и ещё к одному незнакомому. Улыбнулся господь поневоле, уголком рта…
Ну и что же? Что за водоворот времён закружил меня? Церкви тысяча шестьсот лет, но крыше её один год, христианству две тысячи лет, а жертвоприношениям — десять тысяч; сноб вошёл в храм лет десять назад, а люди следуют обычаю не первую сотню лет, газетка под пир подстелена вчерашняя, а небо над нами вечно, католикосу шестьдесят, а мне тридцать — боже! — а певице — двадцать пять, а кто-то ещё и не родился, и неба ещё не видал!
Из каких разных времён пришли сюда жертвоприношения и снобы, служба и филармония, постройки и пристройки, текст и пение его! Каша, водоворот, стремнина времён в секунде настоящего времени.
История в своей последовательности трещит по швам. Связывает времена лишь то, что было всегда, что не имеет времени и что есть общее для всех времён. У вечного нет истории. История есть лишь для преходящего. История есть у биологии, но её нет у жизни. Она есть у государства, но её нет у народа. Она есть у религии, но её нет у бога.
Книга
------------
Мой друг — армянин, а я русский. Нам есть о чем поговорить.
— О, — сказал друг, — если ты раз проявил любовь, тебе придётся отвечать за это!
— Как это?
— Тебе придётся её проявить ещё раз.
— А если я разлюбил?
— То ты предал.
— Почему же?
— А зачем же ты любил до этого?
О чём это мы говорим? А говорим мы вот о чём…
— Если я армянин, — говорит он, — то я армянин и никто другой. Есть ли у меня основание любить какую-нибудь нацию так же, как свою? Нету… Но тогда есть ли у меня право предпочитать какую-либо нацию другой? Никогда. Нельзя быть армянофилом, если ты не армянин, так же, как нельзя быть армянофобом. Вот ты стал армянофилом, а это нехорошо.
— Почему это я стал армянофилом?
— А так. Вот ты написал уже раз обо мне, как об армянине, и похвалил, написал только хорошее. Просто так написал. Потом ты напишешь ещё раз, об этой поездке. Тоже, конечно, не скажешь об армянах плохо, скажешь ещё раз хорошо. А потом, в третий раз, ты уже обязан будешь любить нас и стоять на этом, чтобы не быть предателем. Ты уже армянофил.
— М-да, — сказал я, — это мне не нравится.
— И мне это не нравится, — сказал друг, — именно поэтому я дал себе слово: никогда ни о какой другой нации не сказать ничего. Ни дурного, ни хорошего.
Но мне уже поздно следовать этому принципу, мне уже не отказаться от многих слов, чтобы не предать.
И мне придётся сейчас признаться, как я попался, как стал армянофилом. И говорить о том, о чём я сейчас скажу, я не имею права так же, как, начав, не говорить об этом. Это моё заявление станет скоро понятным…
…Армянофилом можно стать, совершенно не заметив, когда и как это случилось. Например, открыв одну академическую книгу в любом месте и прочитав из неё любую страницу…
«В некоторых из деревень жители перебиты, а другие — только разграблены. Также значительное число людей вместе со священниками силой обращено в магометанство; церкви превращены к мечети.
Большинство деревень Хизана разграблено и подвергнуто избиению. Изнасилованы девицы и женщины, и множество семейств обращено силой в магометанство. Церкви ограблены, святыни осквернены, настоятели монастырей Сурб-Хача и Камагиеля умерли в ужасных пытках, а монастыри ограблены.
Город Сгерд подвергся избиению; лавки и дома разграб…»
…Это был первый день моего пребывания в Армении. Я сидел у сестры жены друга и ждал друга. Я уже трижды отведал всех яств и прислушивался: после самолёта у меня всё ещё были заложены уши. Но глаза мои были открыты. Я вышел на балкон.
Непривычная картина, которую я тут же посчитал экзотической, открылась мне. Я видел перекрёсток, и по нему, изгибаясь толстой змеёй, медленно продвигалась похоронная процессия. У себя дома (на родине) я давно отвык от торжественных похорон: тихо, не омрачая моего зрения, увозили от меня незнакомых мне соседей, и я не всегда даже знал, что они умерли, так же как не знал, что они — жили.
Впереди, как бы раздвигая улицу и очищая её от суеты (и улица пустела), с невыносимой плавностью и медленностью плыл некий «кадиллак», в нём стоял страстный человек с красной повязкой на рукаве и дирижировал. Далее в расчищенном уже пространстве шёл грузовик: алая, кумачовая платформа, в центре — открытый гроб, а по углам, преклонив колено, — четверо чёрных мужчин, противоестественно выпрямившись и затвердев (кажется, с венками в руках), торжественно глядели вперёд, как бы даже не моргая… И далее следовало такое количество «Волг», что я сбился со счёта.
Сила впечатления была не от смерти, не от скорби, не от торжественности — оно проникало с какого-то другого, потайного хода. Это солнце, эти чёрные раскалённые костюмы, это необъяснимое опустение, эта тяжкая медленность — казалось, мир загустел вокруг, а воздух и прозрачность его становились материальными и предметными. В этом стекленеющем, густеющем, раскалённом, но уже остывающем мире тяжко было само движение вереницы машин, созданных для скорости. Они шли беззвучно, пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем, как снег.
Подавленный, я вернулся в своё кресло, поднял оставленную корешком вверх академическую книгу, перевернул страницу назад, чтобы понять, о чём была речь…
«IX. Битлисский вилайет. Город Битлис перебит и разграблен вместе с окрестными деревнями и уездами, которые суть: 1) Хултик, 2) Мучгони, 3) Гелнок, 4) … 99) Уснус, 100) Харзет, 101) Агцор, 102) …»
Что же это? Листаю вспять…
«Верховному патриарху нашему Мкртичу,
святейшему католикосу всех армян
Ваше святейшество, блаженный Хайрик, со слезами на глазах и прискорбным сердцем…»
Кто это написал? Листаю, ищу подпись…
«…вот наша судьба и участь; просим, умоляем со слезами, сжальтесь над оставшейся в живых горстью народа, и, если возможно, то не откажите бросить горсть воды на огонь, сожигающий его.
Вартапет Акопян"
Я бросился в конец книги и снова раскрыл в «любом месте»…
«Линия поведения, предписываемая на этот счёт книгой цензуры, опубликованной в начале 1917 года отделом цензуры при службе военной прессы, была изложена в следующих словах:
«О зверствах над армянами можно сказать следующее: эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Турцией, но и необходимо, чтобы в данный тяжёлый момент мы воздержались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность хранить молчание. Позднее, если заграница прямо обвинит Германию в соучастии, придётся обсуждать этот вопрос, но с величайшей осторожностью и сдержанностью, всё время заявляя, что турки были опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молчание в армянском вопросе».
Откуда это? Переворачиваю страницу… «Иозеф Маркварт о плане истребления западных армян». Кто это — Маркварт?
Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие же пышные и длинные, как первые, пересекали перекрёсток…
Тут мне изменяет приём, хотя именно так и было: мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу… Но сейчас я уже не верю в эту последовательность и не выдерживаю её.
Всё это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И, написав, что её можно раскрыть в любом месте, я оставил пустую страницу. Повесть была окончена, а в начале рукописи, приблизительно вот здесь, всё белела пропущенная страница: достать книгу оказалось так же трудно, как Библию.
Я пишу эти строки в Ленинградской Публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести, но если следовать хронологии написания самой повести — это безусловно последняя глава.
Так вот, я сижу в библиотеке и наконец снова держу и руках эту книгу. В ней пятьсот страниц, у меня два часа времени, и я понимаю, что выбрать из неё наиболее характерные, яркие и впечатляющие места мне не удастся. И тут же понимаю, что это было бы и неверно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посредине…
«Из 18 тысяч армян, высланных из Харберда и Себастии, до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 тысяч, высланных из Арзрума, — всего 11 человек… Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге, рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух».
Это из путевых заметок немца, очевидца событий в Киликии.
Переворачиваю на сто страниц назад.
«Мадам Доти-Вили пишет:
«Турки сразу не убивают мужчин, и пока эти последние плавают в крови, их жёны подвергаются насилию у них же на глазах»… Потому что им недостаточно убивать. Они калечат, они мучают. «Мы слышим, — пишет сестра Мария-София, — душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам».
Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали её; многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к, столам.
Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски и распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает ещё о другого вида поступках:
«Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака».
Пытки бывают то грубые, то искусно утончённые. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить своё удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого.
Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребёнка, которого те недавно несли на руках».
Я раскрывал эту книгу в четырёх местах. И я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова, и почти озираюсь, чтобы никто не видел. Тут сидит около ста человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырёх местах, как открылось. Я могу поклясться любой клятвой, что это не приём, что это действительно так. В этой книге осталось ещё пятьсот страниц, мною не прочитанных.
У меня кончились чёрные чернила, когда я раскрыл её в четвёртый раз, и я вынужден писать красным грифелем. И тут нет ни подтасковки, ни символа — это случай, но страницы мои красны.
Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то невозможно, — то это есть. Если мы только подумаем — то это уже есть.
Всё есть в этом мире, и для всего есть место.
Всё помещается.
Я больше не буду открывать эту книгу, я не стану её читать. Мне кажется, что тогда в Армении, в мой первый день, я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое привёл сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны… И они уже не казались мне экзотическими: другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней…
И теперь, постановив больше не заглядывать в эту к вигу, я могу, отдыхая и понемногу успокаиваясь, перед тем как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление:
«1. Избиение армян при султане Абдул-Гамиде (1876 — 1908)
2. Массовая резня армян младотурками (1909 — 1918)»
Вот и всё оглавление. Как прекрасно прилегает 1908-й к 1909-му! Как последняя страница первого тома к первой странице второго… Двухтомник. Ранние произведения — первый том. Посмертно опубликованные — второй.
А потом и предисловие…
«Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдул-Гамида погибло около трёхсот тысяч, в период правления младотурок — полтора миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении и вообще, по всей Турецкой империи проживало более трёх миллионов армян, то в 1918 году — всего 200 тысяч*»
А мой друг говорит не «резня», а «рéзня». И я никак не могу отделаться от этого ударения на первом слоге. Будто «резня» — это так, режут друг друга… а «рéзня» — это когда тебя режут. И вкус собственной плоти во рту…
Голос крови
Не оттого ли так силён голос крови?
Не та ли, пролитая, откликается?..
Едут старые и малые, миллионеры и по грошу накопившие на путешествие, знаменитые и совершенно безвестные армяне-американцы, армяне-французы, армяне-австралийцы… Звёзды «Метрополитен-опера» и Азнавур, Вильям Сароян и знаменитый польский кинорежиссер, в жилах которого, оказывается, течёт половина армянской крови… Их маршрут Ереван — Москва, а не Москва — Ереван. «В Ереване случаются концерты, которым позавидует Москва!» — трогательное тщеславие ереванцев…
Толпы армян-туристов, зачастую ни разу не видевших родину или видевших в далёком и страшном (геноцид!) детстве, забывших или вовсе никогда не знавших родной язык (даже родившиеся за границей от эмигрантов-родителей, могут быть уже очень немолодые люди!..), — все они едут в Советскую Армению приобщиться к духовным истокам нации, посмотреть, как живёт их родина ныне.
Теперь у них есть эта возможность.
Едут и старики, бежавшие в своё время от геноцида, взглянуть ещё хоть раз — можно и помирать.
А то и возвращаются навсегда, целыми семьями — из Сирии, из Ливана… Их быстро научаешься отличать в уличной толпе: они темней, южней, почему-то толще, идут, словно дорогу вспоминают…
…Многое может забыть человек, но никогда, оставаясь человеком, не забудет он себя вплоть до родины. И в этом — залог.
В этом же и та последняя помощь полузабытой родины: ты ещё сам не забыт, раз меня помнишь… Ты ещё мой сын. Мать не отступается и от блудного сына, тем более — от изгнанника.
Отношения с родиной такие же, как с мамой: быть может, и слабеет связь с тех пор, как она уже не кормит тебя… но — до последнего часа! Тут она придёт закрыть тебе глаза. И это уже совсем невозможно вынести, что нё придет.
Смысл того, что родина — мать, в том и заключается, что родина в конечном счёте, в счёте конца, любит своих сыновей сильнее, как и всякая мама.
Мы можем и не подозревать в себе этой любви… Во всяком случае, её не следует выкликать и насильственно вызывать её образ — она никуда не денется, и ты никуда не денешься: как помнишь ты имя матери, и в этом лишь один смысл, что только одна женщина могла родить тебя, так и у земли, где ты родился, где родились твои предки, лишь одно имя, и это не в том смысле, что земля твоя лучше всех, а в том, что такая точка могла быть только одна, обыкновенная, ничем не примечательная точка, как и мать твоя — обыкновенная женщина, одна из тысяч, но одна, но именно эта. И от них произошёл ты, и только так возможно осмыслить свою единственность на земле…
…И стоит посреди ереванской улицы толстый и старый армянин-сириец, растерянный и оглушённый, щурится на родное солнце и всё узнаёт, узнаёт… и словно узнать не может.
*
После геноцида половина армян оказалась в эмиграции. Но армяне не признают слова «эмиграция». Это слово для них оскорбительно. Одно дело, когда ты покидаешь страну из политических убеждений или в поисках лучшей жизни, а другое — когда спасаешь жену и детей от насилия и кривого ножа.

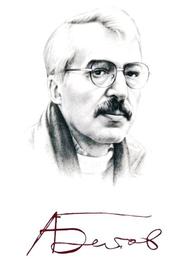
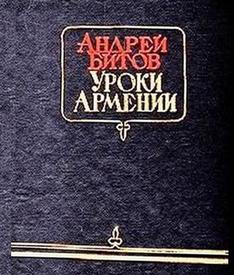
Ы правы, Константин, был невнимателен, там написано "предыдущая", а я бегом просмотрев увидел другое.