Чеканное, как на медали, асимметричное лицо — образ Паганини под нимбом вьющихся каштановых волос. В его расстегнутом мятом пиджаке, небрежно повязанном галстуке-бабочке была какая-то своя, особая элегантность. В руке давно погасшая трубка. Таким предстает перед нами на автопортретах Александр Осмеркин.
Полулежа на старом продырявленном диване в глубине мастерской, он нередко декламировал Пушкина, наслаждаясь музыкой и ритмом стиха. Иногда это были не декламации стихов, а размышления о великих мастерах искусства или воспоминания, рассказы о юности, о его неуемной, столь богатой событиями и приключениями жизни. Так встречал Осмеркин своих учеников, когда они приходили навещать его. Процитировав первые строки «Пророка» или «Бесов», он прерывал себя на полуслове и просил учеников показать свои зарисовки.
А в мастерской он останавливался перед тем, кто безнадежно завяз в цветовых отношениях и уже битый час водил кистью по одному и тому же месту. На несколько мгновений кисть перекочевывала в руки мастера. И происходило чудо. Два-три мазка, два-три мягких, как будто небрежных прикосновения кисти — и краска становилась цветом, и полотно оживало.
Он не подчищал, не украшал работы учеников. Он едва прикасался к какому-то месту холста, он направлял взор начинающего художника, его мысль так, что ученик вылезал из тупика и заканчивал работу, как ему это было свойственно, в меру отпущенных ему способностей.
В мастерской Осмеркина во Всероссийской Академии художеств царила атмосфера товарищества, простоты и деловитости. Профессор был неизменно вежлив со студентами, как и с другими преподавателями или с натурщиками. Никогда не повышал голоса, не распекал. И хотя он говорил с учениками, что называется, «на равных», не было ни одного проявления панибратства, фамильярности по отношению к учителю.
Студенты отвечали ему доверием, уважением и любовью. Александр Александрович не отказывал себе — и студентам — в удовольствии посидеть в их компании в ресторане, но даже подвыпивший именинник не позволял себе никакой вольности по отношению к учителю. Эта незримая уважительная дистанция соблюдалась всегда, во всех случаях.
Студенты часто любовно подтрунивали над ним по поводу его типично профессорской рассеянности. Например, по поводу его поминутно гаснущей трубки, которую он никогда не выпускал из рук, и постоянной просьбы дать ему спички. Раскурив трубку, он конечно, клал коробок в карман и к концу дня карманы его не вмещали такого количества спичечных коробков — они каскадом высыпались вслед за вынутым платком.
Александр Александрович был педагогом, что называется, «божьей милостью». И хотя у него не было четкой программы, системы преподавания, каждый его совет, наставление воспринимались навсегда. Он сам был для учеников живым примером беспредельной преданности искусству, чистоты, бескомпромиссности, предельной увлеченности и как никто другой умел зажигать этой «одной, но пламенной страстью», которой служил и которой жил.
А увлечен он был всегда кем-нибудь из художников старого или нового времени. Но это не значит, что он изменял своим прежним увлечениям. Просто что-то новое вдруг всплывало на первый план. Главное достоинство его «школы» было не столько в обучении приемам, сколько в том, что он прививал любовь к искусству, широту его понимания, нетерпимость к фальши.
Он был человеком не просто широко образованным и подлинно интеллигентным. Он был представителем той старой культурной прослойки, общение с которой стоило десятков циклов лекций по искусству.
Когда на Осмеркина обрушились несправедливые нарекания, из-за которых ему пришлось покинуть мастерскую и оставить преподавательскую деятельность, его первой реакцией было удивление, недоумение. Он не мог постичь причину столь жестоких, несправедливых нападок. Ему инкриминировали пристрастие к французской живописи, к Сезанну. Хотя он в не меньшей степени преклонялся и перед Суриковым, и перед Александром Ивановым. Сезанн и Суриков не были для него антиподами. Напротив, он умел находить в них аналогии. Он черпал из сокровищницы мирового искусства с жадностью исследователя все, что питало его собственное творчество, и щедро делился этим богатством со своими учениками.
Слова «я учился у Осмеркина» стали своего рода паролем, ключом принадлежности к товариществу, ключом доверия. Даже если люди занимались в мастерской Осмеркина в разное время и их пути в жизни и искусстве расходились, слова «я учился у Осмеркина» создавали ощущение некоей общности, братства.




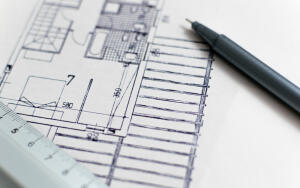
Карина Бахтадзе, большое cпасибо за то, что постоянно представляете художников, чаще всего неизвестных широкому кругу. Открываете что-то новое. Ваши статьи рассылаю всем своим знакомым и использую на уроках. Успеха Вам.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Интересный художник. мне особенно нравятся его пейзажи и натюрморты. 5
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Чеканное, как на медали, словно ассиметричное лицо Паганини под нимбом вьющихся каштановых волос. В его расстегнутом мятом пиджаке, небрежно повязанном галстуке-бабочке была какая-то своя, особая элегантность. В руке давно погасшая трубка. Таким он предстает перед нами на автопортретах. - чесслово, прочитала это и тупо принялась вспоминать, как Паганини зарекомендовал себя в качестве автопортретиста.
Таки осознав, что речь - все ж об Осмеркине, двинулась дальше.
Полулежа на старом продырявленном диване в глубине мастерской, он нередко декламировал Пушкина, наслаждаясь музыкой и ритмом стиха. Иногда это были не стихи, а размышления о великих мастерах искусства или воспоминания, рассказы о его юности, о его неуемной, столь богатой событиями и приключениями жизни. Действие задано то же - декламация. То Пушкина, значит, декламируем, то размышления о великих мастерах - тоже декламируем? Попыталась представить, каково это, декламировать размышления - заклинило.
Дальше, как говорит классик, "не четал".
Лишь, как мудрый читатель детективов, пошла посмотреть, чем дело кончилось.
Даже занимаясь в мастерской Осмеркина в разное время и когда пути в жизни и искусстве расходились, слова «я учился у Осмеркина» создавали ощущение некоей общности, братства. Достойный финиш. Слова, занимаясь в мастерской Осмеркина, создавали ощущение. Ага, диагноз.
Еще мелочь. На беглый взгляд, отсутствует обязательный атрибут биографических статей - даты жизни. Меж тем в отношении российских художников достаточно сообщить, что человек жил в первой половине 20-го века, и становится все понятно. В частности, почему учительствовал и почему оказался изгнан из учителей.
Заголовок странный. Это, конечно, самое главное для великого художника - чтоб его ученики любили.
0 Ответить